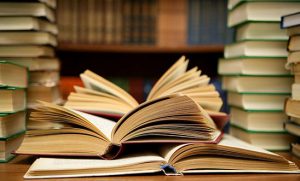
Г.А. ШАРИПОВА
к.ф.н, доцент кафедры русской филологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
О ПОЭТИКЕ ПИСАТЕЛЯ ЧЕХОВСКОЙ «АРТЕЛИ»
В статье рассматривается поэтика произведений А.А. Тихонова-Лугового. Устанавливаются историко- литературные источники сюжетов, идей и образов писателя.
Ключевые слова: чеховская «артель», А.А. Тихонов-Луговой, образы метафоры «теплом повеяло», «на курином насесте», «алльмирор».
В русском литературном процессе 1880-1890-х годов существенную роль играли писатели че- ховской «артели». На примере творчества одного из них, беллетриста А.А. Тихонова-Лугового, вид- но, как глубокая преданность эстетике реалистической литературы сочеталась с утратой целостного взгляда на мир и с поисками общей идеи.
Первые три тома сочинений Лугового выходят в 1894-1895 годах, через десять лет с начала ли- тературного творчества. В 1896 году это издание произведений писателя будет рассмотрено при присуждении Пушкинских премий на заседании Отделения русского языка и словесности Импера- торской Академии Наук и удостоено почетного отзыва.
Рецензировал сочинения молодого писателя историк литературы К.К. Арсеньев, который дал классификацию разнообразных по форме и по содержанию произведений Лугового. С обоснован- ной мерой точности в первую группу были выведены повести и рассказы анекдотического свой- ства, во вторую – произведения о маленьких людях и их незаметном существовании, в третью от- несены рассказы из народного быта. Особую группу, по мнению критика, составляли «наиболее выдающиеся произведения писателя «Добей его» и «Грани жизни» [1].
Классификация Арсеньева позволяет определить в качестве основного предмета рассмотрения в предлагаемом разделе рассказы Лугового из народного быта и произведения большого жанра «До- бей его» и «Грани жизни».
Не углубляясь в подробный анализ произведений первых двух групп, следует заметить их харак- терные особенности. В рассказах анекдотического свойства, которые определены рецензентом как наименее важные, писатель воспроизводил какие-то сценки или события с чисто внешней стороны, улавливая правду мгновения и не претендуя на изображение той или иной стороны общественной жизни. Отзвуки «анекдотического» художественного отражения действительности прослеживают- ся в рассказах Лугового «Не от мира сего», «Простая случайность», «Счастливец», «Музыкант в своем роде», «Ольга Ярославна» и других.
В рассказе «Не от мира сего» повествуется о том, как слабонервная и впечатлительная барыня, едущая лечиться на Кавказ, надеется встретить там олицетворение своего идеала – лермонтовского Демона. Услышав ночью при романтической обстановке красиво исполненную арию из «Демона» Рубинштейна, она умирает от разрыва сердца.
«Музыкант в своем роде» – это анекдот о неудачнике-дилетанте, желавшем научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. Путем постоянных променов он «превращает» ее в гитару, в флейту и наконец – в концертный билет. С чем и остается.
В целом поэтика произведений «анекдотического» свойства Лугового, коренилась в культурно- исторической традиции жанра анекдота и завершала события неожиданным образом, показывая неразделенность в жизни двух противоположностей: комического и прозаического, комического и трагического. Однако трагическое в этих рассказах не выходило за рамки частных неприятностей в жизни героев, поэтому они, неприятности, не являли типичные факты абсурда, несовершенства и не переводили осмысление внутреннего мира человека и его поступков в притчевое начало.
Как известно, анекдот был широко представлен в произведениях раннего и зрелого периода творчества А.П. Чехова, который талантливо осуществил в литературе последней трети XIX века творческую контаминацию анекдота и притчи, и это способствовало эффекту «особой философич- ности чеховской прозы».
В рассказах же «анекдотического» характера Лугового притчевое начало отсутствует, нет в них и высокой иносказательности, что, вне сомнения, снижало природу художественности названного жанра и отображало лишь внешнюю сторону жизни персонажей.
Серьезностью замысла отличаются повествования Лугового о «маленьких людяхи их незамет- ном существовании». В рассказах даны законченные картины жизни тех социальных низов, где среди однообразия и обыденщины есть свои радости и невзгоды. Правда, эти невзгоды больше связаны с характером и личным мироощущением героев, нежели с осознанием и изображением общественных противоречий, что отвечало бы делимитации границ направленческой критики, для которой рассказы Лугового «не представляли ничего значительного и в положительном и в отрица- тельном смысле» [1].
В этой группе произведений по теме осмысления жизненного опыта человека выделяется по- весть «Теплом повеяло» [2]. Один день из жизни главного героя повествования Порфирия Ивано- вича ретроспективно освещает все прошедшее. К бывшему барину, рано овдовевшему и оттолкнув- шему от себя единственную дочь, потому что она задумала выбрать свою дорогу жизни вопреки его воле, неожиданно приезжает внучка, о существовании которой он и не ведал. Прежде равнодушный ко всему и ко всем, Порфирий Иванович, после встречи с внучкой и ее бесхитростного рассказа словно пробуждается от своего безвредно-растительного существования. Старик думает о том, что его прежняя жизнь была ошибкой, что он больше виноват перед умершей дочерью, чем дочь – перед ним. Хотя нет в рассказе следов горького раскаяния и резкого изменения персонажа, но мимоходом повеявшее тепло создает впечатление о задумавшемся герое, склонном к рефлексии.
Драматичность судьбы отца, покинутого единственной дочерью, ее замужество-бегство и ран- няя смерть, «явление» внучки старику – все это не составляет художественного открытия Лугового. Подобные мотивы с некоторыми вариациями выявляют очевидные связи и с повестью «Станци- онный смотритель» А.С. Пушкина и, в особенности, с романом «Униженными и оскорбленными» Ф.М. Достоевского. Не является открытием и тот тип эстетического видения провинциальных нра- вов, хорошо знакомых Луговому из опыта собственной жизни в Царевококшайске и отраженных в повести «Теплом повеяло».
Все эти годы, после бегства дочери с бедным и неизвестным художником, Порфирий Иванович находился в городке, схоронив в душе самую память о прошлом и о той «неблагодарной», которую считал разрушительницей его планов устроения жизни в достижение богатства и блеска. Служба, знакомства, честолюбивые замыслы – все утратило смысл. Он выработал новую философию, о чем признается внучке: «Прошли годы, и я умиротворился на полном равнодушии к целому миру».
<….> Я живу здесь сам для себя. Молюсь, читаю, гуляю. На Новый год и Пасху хожу даже в гости [2, 230-231].
Однако Луговой продолжает разрушать скорлупу замкнутого пространства своего героя. И не только обликом юной девушки, хронотоп пути которой он характеризует многомерно, дав ей имя
– Надежда и сообщив, что она с восьми лет играла на сцене и стала «актрисой», «вольной птич- кой». Писатель предопределяет развитие сюжета встречи ирасширение пространстважизни героя, используя символические образы весны и поезда.
В начале повести психологическую панораму окружающей действительности и внутреннего со- стояния героя артикулирует стечение различных чувств. Первое чувство, безразличия,было связано с образом «пассажирского поезда №3», каковой ежедневно проходил мимо окон дома Порфирия Ивановича, но никогда не занимал еговнимания, ибо «ни он никуда не поедет, ни к нему никто не приедет [2, 211]. Доминанты иного чувства – благодушного расположения духа героя – это тепло утренних лучей солнца, высланная священником просвирка, приглашение исправника к вечернему винту, предстоящее чаепитие за столом яств, накрытым в саду заботливой кухаркой Настасьей.По- этому, когда его машинальный взгляд в сторону железнодорожной станции завершается образным восприятием движущейся женской фигуры, он еще не ведает, что«сегодня» наступило время упо- добления эмоциональных переживаний не только возрождающейся природе и празднику Пасхи, но и явлению внучки, привлекательной девушки семнадцати лет по имени Надежда.
В конце повестипреобладают мотивы далеко не безразличного видения действительности, что реализует тот же зримый ряд: станция, локомотив, поезд, который увозил Надю. Ее отъезд Порфи- рий Иванович воспринимает как большое горе и, глядя «теперь» на дымок локомотива и молодые сосенки, которые исчезали за горизонтом, сливаясь с далекими полями, он снова открывал для себя мир полный людей с их радостями и тревогами, ошибками и прозрениями. Словом, не броский, но богатый смыслами пейзаж репродуцирует новое эмоциональное состояние героя.
Не ради сравнения, а примера ради: в отличие от своего великого современника Л.Н. Толстого, в изображении которого железная дорога несла разрушительное начало («Анна Каренина», «Крейце-
рова соната», «Власть тьмы»), Луговой использует символику поезда, чтобы оживотворить атемпо- ральное время – пространство своего героя, внести смуту в его душу мотивами юности-надежды. По аллюзивной номинативности символика железной дороги «Теплом повеяло» несколько соотно- сится с рассказом И.А. Бунина «Чаша жизни» (1913). Вокзал манит одиноко состарившуюся Алек- сандру Васильевну затаенной мечтой – увидеть того, кого она любила в юности. В конце бунинско- го произведения, вовлекая улицы и мещанские дома уездного города в общее движение и нарушая тем самым монотонное «местечковое» существование с его мотивами вражды-соперничества, том- ления-безнадежности и гордыни-умиротворения, поезд шел по «Стрелецкой железной дороге» [3].
Опираясь исследование В.А. Стариковой [4], посвященное теоретическому обоснованию детали и ее эстетической функции, важно отметить ряд коннотаций. В рассматриваемом произведении Лу- гового «пассажирский поезд № 3» по своей художественной функции являет пример обрамляющей кольцевой детали. Авторская акцентуация культурно-исторического плана разных миров героев связана с вещными деталями. «На зеленом фоне барбарисовых кустов изящный костюм внучки, рядом с пестрым сарафаном кухарки, бросался в глаза, напоминая о другой жизни, другом мире», – повествует автор, взглядом своего героя представляя несводимые друг к другу образы женщин [2, 220]. Как следует далее, Порфирию Ивановичу «стало вдруг почему-то стыдно, обидно», и он за- думался. Через эмоционально-оценочную формулу роль вечных деталей Луговой проявляет полю- сы психологического пространства героя и егоновых переживаний. В отличие от старого Смитта, застывшего в своей системе координат (Ф.М. Достоевский. «Униженные и оскорбленные»), сердце старика Лугового наполняется давно неведомым чувством. Он упрашивает внучку остаться около него, но ее душе тесен уют размеренной жизни. Надя спешит к ангажементу. Условности и воль- ности театра – кулисы, сцена, роли, спектакли, аплодисменты – составляют жизненное начало де- вушки.
Эмоционально-оценочная тональность всего повествования прежде всего связана с образом-мо- тивом девушки-весны, что выражено в поэтике формульного заглавия: «Теплом повеяло».
Существенно, что в названной по-весеннему повести писатель актуализирует проблему цели жизни, которая звучала остро в литературе рубежа веков и была предметом обсуждения различ- ных представителей общественной мысли. Смысложизненный кругозор персонажа произведения снижен мотивами гордыни, соперничества и стремления к превосходству. Сначала Порфирий Ива- нович стремился сделать «что-то такое», чтобы «возвыситься и по положению, и по уму над всеми окружающими». Потом он моделировал будущее своей дочери, которому бы все завидовали, а на отца, устроителя «партикулярного» счастья, смотрели бы с почтением. По гордыне своей герой вы- черкнул из жизни источник своих страданий – дочь и в противовес несостоявшемуся счастью обрел эпикурейский покой одиночества, переехав семнадцать лет тому назад в этот город Корзинкин, где никто не знал о его унижении покинутого отца.
Так, семейно-бытовая ситуация повести транспонирована в модус психологически-бытового по- вествования «о среднем человеке». Это определение более характеризует социальный и мировоз- зренческий статус героя повести «Теплом повеяло», нежели данное К.К. Арсеньевым – «маленький человек». В галерее себе подобных образов русской литературы конца ХΙХ – начала ХХ века герой Лугового отличается большими амбициями. После встречи с внучкой способен к осмыслению соб- ственных ошибок и действий, а также к обретению опыта самопостижения и открытия мира в его многообразии. Благодаря указанным штрихам образа-портрета, герой не вписывается в галерею
«маленьких людей». Да и по социальному положению он далек от персонажей этого ряда.
Основной пафос других рассказов («На курином насесте», «Исполнили») можно определить мыслью самого автора о том, есть ли счастливый человек, не познавший горя.
Свое представление о горе как разрушительной стихии Луговой дает в образной зарисовке:
«Горе, горе! Где родилось ты, зачем выросло на этом белом свете? Где счастливец тот, кого ни разу не давило ты своим тяжелым гнетом? Как громадная лавина, сорвавшаяся с недосягаемых вершин, катится с возрастающей быстротой к подножию горы, захватывая в свои ледяные объятия и высо- кие деревья, и мелкий кустарник, и орлиные гнезда, и куриные насесты, – так ты, горе! Несешься по белу свету, налетая неведомо куда, и захватываешь на пути своем и богатых, и бедных, и молодых, и старых» [1, 175].
Из авторского восприятия «этого белого света» возникают образ-метафора «на курином насесте» и концепт «горе», которыми писатель выражал определенный взгляд на мир. Арсеньев продолжил сравнение Лугового, заметив, что разрушение лавиною, реальною или метафорическою, жалкой хи-
жины нищего – бедствие отнюдь не меньшее, чем разрушение великолепных палат вельможи. В его дальнейших рассуждениях предстают классические образы русской литературы, в рамки которых создание Лугового трудна вписать.
Иными словами, несмотря на то, что метафора «на курином насесте» и концепт «горе» Лугового были близки к эстетике предшествующей литературы, сам автор названного выше произведения скользил по поверхности. Эта мысль возникает из следующих суждений критика: Особенно круп- ную роль горе, испытываемое «на курином насесте», играет именно в русской литературе. Начиная со «Станционного смотрителя» Пушкина, с Максима Максимовича в «Герое нашего времени», осо- бенно с «Шинели» и «Бедных людей», оно внушает нашим великим писателям некоторые из самых замечательных их произведений. Если, однако, присмотреться поближе к тому, что именно пленяет и трогает нас в этих произведениях, то не трудно заметить одну общую им черту: горе, которое они изображают, коренится в самой глубине человеческого сердца, или прямо задевая самые отзывчи- вые его струны, или заимствуя особую силу от всего прежде пережитого и перечувствованного. Другими словами – оно не поверхностно и зависит не только от случая. Так, например, горе Девуш- кина в «Бедных людях» вытекает из старческой любви, тем более мучительной, что она была его первым и единственным сильным чувством; к этому присоединяется ощущение приниженности, сознание нравственного упадка, страх перед дальнейшим падением. Горе Акакия Акакиевича по своему источнику более мелко, но оно захватывает все его существо, потому что его жизнь, серая, неприветливая и мертвенно-скучная в течение нескольких лет была озарена и скрашена исключи- тельно ожиданием новой шинели. Ничего подобного мы не видим в рассказах Лугового [6].
Последний тезис Арсеньев подтверждал кратким анализом произведений Лугового и утверж- дал, что горестные события в них имеют случайные причины. Как, например, в семье Гордеевых («На курином насесте») из-за несостоятельности торговца, которому мать семейства доверила свои последние деньги, или в семье Мироновых («Исполнили») – из-за «неисправности» товарища, за которого поручились.
Следует, видимо заметить здесь биографические предпосылки повести «На курином насесте», которая рождалась осенью петербургских дней 1885 года. Это было время упадка не только соб- ственного «предприятия», но и «дела» отца, поэтому Луговой не мог рассчитывать на его помощь. Он решает жить исключительно литературным трудом, а впредь до первого заработка –в долг. Начинающий писатель возлагал на свое первое большое произведение все свои надежды и, надо полагать, не только материально-практические, задумав его как хронику умирания человеческой души еще при жизни персонажа.
Молодым предстоит в повести Григорий Гордеич и сходит с ее страниц почти стариком. Получи- лось растянутое на сотню страниц изображение однообразного существования человека, умственно пустого и неимеющего представления о каких-либо высших интересах. Повесть не могла претендо- вать на историю судьбы человека или «диалектику души». По заключению современника писателя,
«существование таких людей, как Григорий Гордеич, не имеет истории; оно всегда равно самому себе, в какой бы момент ни было взято» [6].
Известно, что журнал «Вестник Европы» вернул рукопись повести «На курином насесте» без объяснения причин.
Вероятно, мотив горя, навеянный Луговому перипетиями собственной судьбы и обилием жиз- ненных наблюдений, и заглавие, ориентированное метафорой «низа», несравнимого с «верхами» орлиного гнезда, были не тождественны композиции и содержанию типично описательного произ- ведения о неодушевленном мыслями и бескрылом персонаже времени.
Через четверть века Луговой, вспоминая об отвержении своей первой повести редакцией «Вест- ника Европы», писал: «С этого момента начинается мой литературный мартиролог» [7]. Но удиви- тельно, что ни тогда, в 1909 году, рассказывая о терниях своих литературных шагов, ни раньше, в 1895 году, после арсеньевского вердикта о слабых во многих отношениях первых повестях, писа- тель не дал содержательного ответа своим оппонентам. С позиции «обиженного автора» он лишь констатировал в различных автобиографических сочинениях факты многообразных хождений по многим редакциям.
Эти факты, возможно, объяснимы неприятием однообразной техники письма Лугового, его стремления к подробному истолкованию изображаемых событий. В результате писатель не дости- гает соответствующего сюжету и авторской мысли настроения. Проблемы общественных условий жизни лишь оттенены случайностями невзгод; повествования излишне растянуты. Персонажи «за-
стыли» в своем миропонимании и не были способны к сопротивлению обстоятельствам, это на самом деле и по духу «маленькие люди».
Однако в недрах такой среды формируется герой, который верит в свое предназначение и стре- мится к пересозданию действительности. Таков учитель Федор Николаевич Остроумов из рассказа Лугового «Алльмирор», который прокламирует идею нарождения нового языка, призванного объ- единить весь мир. Два года тому назад герой прочитал книгу о всемирном языке «Воляпюк» и потерял покой, самоотверженно трудясь над созданием своего словаря. При этом Остроумов поле- мически отталкивается от не столь благозвучного языка эсперанто и вообразил себя «одним из ар- тели настоящих вольных каменщиков, строивших и строящих вавилонскую башню человеческого благополучия» [2, 594].
Восторженное отношение учителя к проекту языка идеального будущего ассоциировалось с ле- гендой о недостроенной башне в древнем Вавилоне, где и началось, к вящему неудовольствию ге- роя, это столпотворение – разделение языков и людей. Благодаря новому его изобретению, народам суждено будет опять сплотиться в одну общую семью.
А ему, «маленькому учителю и большому другу человечества», признательное потомство поста- вит памятник, бронзовую статую «на гигантском подобии древнего вавилонского столпа» [2, 595]. Сопряженные между собой мифы и ожидания героя становятся его жизненным текстом.
Рассматривая стройные ряды своего экспериментаторского словаря, Остроумов был очень до- волен: «Какой народ не встретит тут родных звуков!» [2]. Радовали его и текст предисловия, и на- звание языка – «Алльмирор», придуманный им самим, и будущность.
Подобно магистру Коврину (А.П. Чехов. «Черный монах»), который был занят смыслом легенды тысячелетней давности о черном монахе и объявил Тане Песоцкой, что тот не сегодня-завтра по- кажется людям, учитель Лугового пытается растолковать жене Вере смысл своей мифологемы. По Остроумову, аль обозначает все; намеренной постановкой удвоенной буквы л он совместил в этом аль – все лексему Ал, означающую Бог. «Произнести алль не так-то просто. Но ведь и английское th, и французские носовые on, in, ип произнесешь не сразу. Этому надо выучиться» [2, 601], так объ- ясняет герой премудрости своего словотворчества. Мир это значит, что в мире должен быть мир, а ор подразумевает язык, говор.
Когда Вера задумывается над вопросом Остроумова, завершающим объяснение, что же означает алль+мир+ор, он негодует и восторженно объявляет: «Божественный, всемирный и всех пожира- ющий язык!» [2, 603]. По его убеждению, словосочетание «Алльмирор» в сравнении с «Воляпюк» звучит открыто и мощнее. И полагает, рассуждая о лингвистических тонкостях своих построений, что существующим «ныне» языкам грозит такая же участь омертвения, как это случилось с языка- ми древних греков и римлян.
Картина-греза, лежащая в основе сближения различных звуков и монтажа слов, хотя и неслучай- ных по своей ценности (все – Бог – мир — ор), завершается такой реальностью, в которой, как изо- бражает Луговой утрачиваются связи героя с окружающей действительностью. Вскоре Остроумов не знал, кого он больше любил – своих детей или свой словарь, рожденный на волнах его лингви- стической всемирности.
Пришла весна, и обнаружились сильное расстройство нервов учителя, бессонница и тяжелый бред. Его болезнь делает необходимым отъезд семьи в Петербург. В завершающей рассказ картине- яви предстает разрушенное семейное гнездо, где горестная Вера собирала вещи, а вокруг валялись разбросанные листки словаря обманных ожиданий.
С оттенком неодобрения высказывался о рассказе критик А.А. Арсеньев, о чем можно судить по фрагменту из его работы «Сочинения А. Лугового»: «Как психиатрический (здесь и далее курсив критика) этюд, «Алльмирор» не представляет ничего законченного и цельного, потому что мы не видим начала болезни, не знаем, что предрасположило к ней Федора Николаевича, почему мысль, у других уживающаяся со здоровой деятельностью, у него обратилась в мономанию. Как этюд психо- логический, как очерк постепенного подчинения человека под власть идеи, «Алльмирор» не может произвести сильного впечатления, потому что сама идея, овладевающая Федором Николаевичем, не принадлежит к числу тех, деспотическое единовластие которых – над нормальным умом – есте- ственно и законно. Когда Федор Николаевич сравнивает себя мысленно с Архимедом и Франкли- ном, когда он «чувствует себя титаном», испытывает «кажущийся полет и приковывающие цепи, безграничную силу и головокружение падения» – нас поражает явное противоречие между значе- нием изобретения и настроением изобретателя. Жалея о последнем как о несчастном бальном, мы
не можем сочувствовать ему, как мученику мысли, изнемогающему под бременем действительно великой задачи» [8].
Судя по эпиграфу рассказа Лугового, взятому из газет («Не забудем, что всемирная история есть осуществление утопий»), автору не столь важны «психиатричность» или «психологичность» этюда о человеке, который был страстно увлечен идеей гипотетического языка вселенной, сколь преце- дент подобных исканий при всей их, возможной, неосуществимости. Писатель позиционирует свое отношение к движению человеческой мысли и чаемой истории не только эпиграфическим пред- текстом повествования [8]. Он «заставляет» своего героя тяжело и, вероятно, неизлечимо заболеть на почве и «рассыпает» листки его словаря. Можно заметить некую неоднозначность авторского отношения.
Рассмотренный рассказ Лугового «Алльмирор» увидел свет, как и рассказ Чехова «Черный мо- нах», в 1894 году. Не только календарно эти произведения отражают близкую литературную тему- ситуацию. Их объединяет индекс некоторых сходных художественно-изобразительных элементов. Так, магистра Коврина вдохновляет картина-видение черного монаха, учителя Остроумова – кар- тина-греза всех объединяющего общего языка; два года герои живут трудятся в опьянении свои- ми миражами, поисками и работой; потом переживают испытания крепостью своего здоровья и прочностью семейного гнезда. Разбросанные в конце произведений клочки бумаги (диссертация, письмо, словарь) мотивируют крушение таких героев, мечты-идеи которых перетекали в жизнь, а жизнь в мечту.
В заключение рассмотренных образов галереи «маленьких людей» и «среднего человека» в про- изведениях Лугового, необходимо заметить, что в выборе и разработке названной проблемы, в отра- жении идеи социальной или морально¬-психологической состоятельности или несостоятельности героев писатель весьма соприкасался с традиционной темой русской литературы. Пережив личную драму несбывшихся надежд, Луговой как бы выражал массовое сознание разочарования в среде обедневших разночинцев. Это было характерно для литературы переходного времени, как показал А.Б. Муратов [9], рассматривая историко-литературные проблемы рубежа веков на материале твор- чества другого «забытого» писателя М.Н. Альбова (1851-1911).
Необычным произведением в наследии Лугового предстает повесть «Умер талант» (1902) [10]. Восприятие литературы как одной из важнейших средств познания духовного опыта творческой личности, судьбы этой личности и отношения к ней окружающего общества – таковы идейно-эсте- тические доминанты замысла писателя. Лиминальное заглавие было навеяно автору мотивом смер- ти некого писателя, которого более или менее знал весь литературный мир, а фабулой произведения стала повторяющаяся у могилы матрица: «Да, умер талант! Новая потеря. Еще одним талантливым писателем меньше. Редеют наши ряды !» [5,4].
По мысли Лугового, эти «цветы запоздалые» возлагали тяжелую ответственность на тех, кто ничего не сделал, «чтобы предохранить это народное достояние от преждевременной гибели» [5]. Восстанавливая свое общение с покойным в памятную ночь последнего с ним свидания, писатель редуцирует ночную беседу в сюжет диалога. Организующую роль в этом диалоге играет картина преобладающей тенденциозности современной общественно-литературной мысли, в которой мало искренности и все рассчитано и размерено до приспособленчества.
Участь писателя, как убежден Луговой, трудна: со всех сторон твердят об упадке литературы, нет любви к искусству слова со стороны современных изданий и разумного отношения к автору и к его созданию. Все это стесняет творческую свободу личности и невыгодно отличает современную историю литературы от эпохи Белинского, который «любил литературу ради литературы» и, пере- ходя от одних убеждений к другим, «молился страшному богу красоты и истины» [5, 43]. Персона- жи диалогизированного воспоминания Лугового находят, что вдохновенное слово писателя не было продажным ремеслом для талантливых публицистов Добролюбова, Писарева и Чернышевского. Чего не скажешь о современной критике, «ругательской или кисло-гражданской». Так, Скабичев- ский, порицая Пушкина, не отрицал при этом, что «наша критика всегда была критикой партии» [5, 45], признавал тем самым деление на литературные лагеря.
Безотрадный взгляд участников диалога различает не только гнет «партийной» критики, но и гнет материальной нужды, давлеющей над художником. Эту недобрую тяжесть, как замечает Лу- говой, не смогли одолеть даже Гоголь, по иронии судьбы давший начало целому периоду русской литературы, и Достоевский, сполна измеривший всю глубину житейских невзгод.
Свои интерпретации проблемы Луговой обобщает сужде¬ниями английского писателя и мыс-
лителя Томаса Карлейля. Решая дилемму, наследие Шекспира или богатство Индии, он высказался так: «Без Индии Англия прожила бы, а без Шекспира она не была бы Англией» [5, 35]. Луговой проецирует сей взгляд на российскую почву и заключает, что здесь не было подобного Шекспиру писателя, но надобно взять всю русскую литературу в совокупности, чтобы осознать, «что без лите- ратуры Россия не была бы тем, что она есть», что именно литература «поставила нас уже в уровень с другими народами, давно опередившими нас в исторической жизни» [5].
Таким образом, взгляд Лугового на русскую словесность рубежа веков можно характеризовать как литературоцентризм писателя.
Большую озабоченность повестью «Умер талант» проявил А. Амфитеатров, который посвятил ей обширную статью своих «мыслей о русском писательстве», озаглавив ее полемически – «Умер ли талант?». Амфитеатров как бы заявляет позитивную энергию созидания: «Я не критику соби- раюсь писать о книге г. Лугового, а поговорить о писателе русском. Таков ли он, как рисует его г. Луговой, таково ли его общественное положение, как понимает его г. Луговой, присущи ли ему те житейские идеалы, что приписывает ему г. Луговой. Думаю, что разобраться в этих вопросах не лишнее, так как имя г. Лугового известно в литературе, и, следовательно, труд, им подписанный, прочтется публикою со вниманием, и мнения его многими могут быть приняты на веру. А это было бы очень грустно, потому что мнения г. Лугового о современном писательстве не только ошибочны, но и опасны для взаимопонимания русского общества и русского литературного мирка, и без того уже не мало разобщенных… и писательское ли дело разобщать их еще далее? (курсив наш – Г.Ш.).
Сказанные вред и опасность книга г. Лугового может причинить тем легче, что она – обманчивая книга» [10, 74].
Однако быть выше «писательского дела разобщения» Амфитеатрову мало удается. Начинает он свою статью с низвержения повести Лугового, находя в ней «какую- то истерическую икоту не- удовлетворенного самолюбия, уподобляющегося на ста тридцати девяти страницах непохвальной птице, что сама свое гнездо марает» [10, 73].
Разносит он и избранный Луговым жанр платоновского диалога, подозревая писателя в «маши- нальном перелистывании» творений Платона. Амфитеатров сужает проблемы, поднятые в повести
«Умер талант!», и предлагает свой диалог печальных подробностей о быте русских редакций, так много поведанных Луговым. Этот диалог ведут Аббадонна, добрый литературный бес, и бес Пене- муэ, первый коварный наставитель человечества в грамоте и письме (из апокрифической «Книги Еноха»). Чтобы ниспровергнуть «менее талантливого беллетриста г. Лугового», они препарируют под пером Амфитеатрова основной тезис Лугового о групповщине и партийности редакций, созда- ющих, по мнению писателя, своего рода цензуру, сквозь которую трудно пробиться.
Так, в отрицании «странного памфлета» и «обманчивой книги» Лугового Амфитеатров создает свай памфлет- пародию, который выливается в противободрствующее нечто и злопыхательство.
Известно, что в культурной атмосфере России начала 1900-х годов первыми осмелились нару- шить направленческие границы символисты, а из журналов первым начал борьбу с литературно- общественной кружковщиной «Северный вестник» [10, 68]. Луговой был далек от символистов. В отличие от критика А. Волынского, который на страницах «Северного вестника» пытался подвер- гнуть переоценке литературное значение Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева, он отстаивал в своей повести «Умер талант!» их исключительную роль в русском литературном про- цессе. Справедливости ради следует отметить, что Луговой пытался быть над «кружковой фило- софией» и названной повестью позиционировал свое отношение не только к общественно-литера- турному процессу переходного времени, но и к проблеме литературы (культуры) в истории России и в целом.
ЛИТЕРАТУРА
1 Указ. Сборник отделения русского языка и словесности.
2 Сочинения А. Лугового. Т.1-2. – СПб., 1894 // Русское богатство. – 1895. — №1. – С. 100. 3 Луговой А. Сочинения. Т.3. – СПб.
4 Бунин И.А. Собр. соч. в 6 т. Т.3. Повести и рассказы 1907-1914 / Редкол.: Ю. Бондарев, О. Михайлов, В. Рынкевич; Подгот. текста и коммент. А. Баборенко; статья-послесловие Л. Крутиковой. – М.: Худож. лит., 1987. – С. 463.
5 Старикова В.А. Гаршин и Чехов (проблемы художественной детали): Автореф. канд. филол. наук. – М., 1981.
6 Арсеньев К.К. Сочинения А. Лугового. Три тома. – СПб., 1895. Указ. Изд. – С. 56. 7 Луговой А.А. Листки из автобиографии // Нива. – 1909. — №6. – С. 117.
8 Как отмечено в книге писем В.С. Соловьева, для рассказа «Алльмирор» Луговой взял слова из газетных отчетов о лекции философа в Париже в салоне кн. Витгенштейн. Лекция была прочитанав мае 1888 года и отпечатана под заглавием «L’Ideerusse» / Письма В.С. Соловьева // Под ред. Э.Л. Радлова. – СПб., 1909. – Т. 2. – С.299.
9 Муратов А.Б., Альбов М.Н. (Творчество писателя в литературном процессе второй половины XIX века)
// Русская литература. – 1988. — №4. – С. 120-133.
10 Луговой Ф.Ф. Умер талант. Повесть. Изд. Товарищ. «Общественная польза». – СПб., 1904. Далее ссыл- ки на это издание приводятся в работе с указанием библиографической номинации.
REFERENCES
1 Wkaz. Sbornik otdeleniya rwsskogo yazika i slovesnosti.
2 Sochineniya A. Lwgovogo. T.1-2. – SPb., 1894 // Rwsskoe bogatstvo. – 1895. — №1. – S. 100. 3 Lwgovoy A. Sochineniya. T.3. – SPb.
4 Bwnin I.A. Sobr. soch. v 6 t. T.3. Povesti i rasskazi 1907-1914 / Redkol.: Yu. Bondarev, O. Mihaylov, V. Rinkevich; Podgot. teksta i komment. A. Baborenko; statya-posleslovie L. Krwtikovoy. – M.: Hwdoj. lit., 1987. – S. 463.
5 Starikova V.A. Garshin i Chehov (problemi hwdojestvennoy detali): Avtoref. kand. filol. nawk. – M., 1981. 6 Arsenev K.K. Sochineniya A. Lwgovogo. Tri toma. – SPb., 1895. Wkaz. Izd. – S. 56.
7 Lwgovoy A.A. Listki iz avtobiografii // Niva. – 1909. — №6. – S. 117.
8 Kak otmecheno v knige pisem V.S. Soloveva, dlya rasskaza «Allmiror» Lwgovoy vzyal slova iz gazetnih otchetov o lekcii filosofa v Parije v salone kn. Vitgenshteyn. Lekciya bila prochitanav mae 1888 goda i otpechatana pod zaglaviem «L’Ideerusse» / Pisma V.S. Soloveva // Pod red. E.L. Radlova. – SPb., 1909. – T. 2. – S.299.
9 Mwratov A.B., Albov M.N. (Tvorchestvo pisatelya v literatwrnom processe vtoroy polovini XIX veka) // Rwsskaya literatwra. – 1988. — №4. – S. 120-133.
10 Lwgovoy F.F. Wmer talant. Povest. Izd. Tovarishh. «Obshhestvennaya polza». – SPb., 1904. Dalee ssilki na eto izdanie privodyatsya v rabote s wkazaniem bibliograficheskoy nominacii.
Мақалада А.А. Тихонов-Луговойдың поэтикалық шығармалары қарастырылған. Жазушының сюжеттік, идеялық және образдық тарихи-әдеби деректері келтірілген.
Түйін сөздер: чеховтық «артель», А.А. Тихонов-Луговой, «жылы лептің есуі», «тауық бақанда», «алль- мирор» бейнелік метафоралары.
This article considers poetic manner ofA.A. Tikhonov-Lugovoy’s works. As a result, historic and literary sources of plots, ideas and images of the writer have been discovered in the following article.
Key words: Chekhov’s crew, A.A. Tikhonov-Lugovoy, metaphor’s image“warmed with life”, “on a chicken roost”, “almirror”.